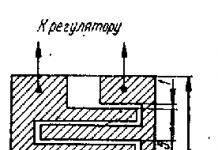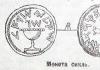С первых лет проживания в Финляндии имелась у меня замечательная собака- курносый американский кокер спаниель по кличке Пёся. Кличка у него была странная, но такая уж к нему прилипла. Когда кличку пытались произнести коренные финны, то получалось у них «Пёсё», что означает сокращение от французского «Peugeot” (по-русски «Пежо»). Но ничего, Пёся откликался и на кличку Пёсё, чем много потешал меня и местных.
Итак, Пёся был спаниелем средних размеров золотой масти и с золотым сердцем. Когда-то его пращуры были охотничьими собаками, но за несколько сотен лет целенаправленной селекции эти собаки стали хорошими антропологами и знатоками людей, а охотничий инстинкт был утерян. Проявляся он, пожалуй, разве что на болотах. Там в Песю вселялся восторг предков, он начинал с лаем носиться по болоту зигзагом, выдавать свечки, пытаясь поднять в воздух птицу. Нрава он был самого кроткого и за всю свою жизнь не загубил даже мыши. Помнится раз на прогулке нам попался выпавший из гнезда воронёнок. Пёся деликатно оббежал его вокруг, дабы не обеспокоить. С собаками он не задирался, другие кобели не воспринимали его всерьёз.
Песя был очень жизнерадостным и послушным. Последнее видимо благодаря тому, что я строго воспитывал его в щенячем возрасте. Запрещалось ему совсем не много вещей, но проступки карались по всей строгости. Пёся был мне настоящим и неразлучным другом. Когда я уезжал на машине в Питер, Песя, со слов жены, становился апатичен, вял, терял аппетит и терпеливо ждал. Когда же я возвращаясь проезжал границу, он вдруг вставал и с протяжным вздохом ложился возле двери в прихожей. Тогда жена набирала мой номер и спрашивала: «Ты уже в Финляндии? Песя пошел в тамбур». После этого я проводил в дороге ещё три часа, а входя в дом в темноте частенько об него спотыкался.
Больше всего Пёся любил гулять и приносить палку. Причем чем тяжелее была кинутая ему палка, тем больше проявлял он азарта и рвения, чтобы вернуть её хозяину. Если вдруг другая собака претендовала на его дубину, он, казалось, скорее расстался бы с жизнью, нежели чем с добычей. Повисал на ней всем весом и не отдавал. Ещё он очень любил плавать. Если я бросал ему в озеро камень, то он мог бесконечно плавать кругами, пытаясь обнаружить брошенный предмет. Порой мне казались сомнительными подобные розыгрыши, но добрый малый ничуть не обижался и смотрел на меня всегда с простодушным обожанием. Иногда в попытках самопримирения я тщетно пытался угадать в себе то, что Пёся видел во мне с такой очевидностью. За что то ведь он любил меня всем сердцем, в этом сомнения не было.
В 1999 году я купил домик на берегу озера в финской глуши. Пёсе исполнилось тогда 8 лет и был он вполне ещё шустрым, но уже не по щенячи широким в талии. По соседству была дача, которой владела пара местных учителей. Пекка предупредил меня, что иногда они выпускают на свободу Пени, крупную лайку.Пекка предупредил, что пёс его непредсказуем и лучше было бы на это время прятать спаниеля в доме. Я довольно легкомысленно отнёсся тогда к его словам, поскольку верил в силу необычайного обояния Пёси. Врядли было на земле существо, способное причинить вред такому симпатяге. Я много раз замечал, что не только люди, но и собаки на тропе уступают ему дорогу.
Надо сказать, что Пени был необычайно красив и сильно напоминал волка. Пекка подтвердил, что у Пени и вправду имеется четверть волчей крови. Его мать была наполовину волчицей, остальные предки были лайки хаски. Смелая экспериментальная и запрещённая в нашей стране вязка была сделана в попытке получить экстраординарную собаку. Охотничей собаки из Пени не вышло, слишком уж был он независим и неуправляем. Пекка сожалел, что не уделил дрессировке и натаске Пени достаточно времени, теперь шанс был безнадёжно упущен.
Внешне пес выглядел почти как лайка хаски: белая морда с прохладными и внимательными, без приветливости серыми глазами. Тело, покрытое серой густой шерстью, прямой хвост, уши домиком и, пожалуй, черезчур длинные лапы. Непропорциональные конечности наделяли его движения особой лёгкостью и грацией. Когда я видел как Пени пробегает легкой рысцой мимо, то невольно замирал, любуясь зверем. Казалось, что он не отталкивается, а скользит по поверхности земли. Поведение его обычным не было. Он никогда не лаял. Появлался бесшумно как тень и исчезал так же. Нападая, он не поднимал на загривке шерсти и не рычал. Однажды он остановился на перекрёстке и мы долго смотрели друг другу в глаза на расстоянии. Он явно знал, что пройдя ещё пару метров окажется на моей территории и границу нарушать не хотел, хотя забора там не было. Это был особый изучающий взгляд, лишённый какой-либо корысти, страха или обожания. Он смотрел на человека не сверху вниз, как смотрит собака, а как равный хищник смотрит на равного.
Несколько приездов соседей на дачу нам удавалось развести собак и избегать их знакомства. Однако зимой неизбежное произошло. Мы с Пёсей катались на лыжах, и далеко, на озере, я увидел наших соседей возле просверленных во льду лунок. Возле них крутился красавец Пени. Наш путь пролегал в метрах триста от соседей. Пёся держался рядом, но Пени, увидав на льду собаку, пригнулся и рысцой устремился к нам. Я услышал истошные вопли соседей и стал поспешно снимать лыжи. Метров за сто до нас Пени пустился в галоп и превратился в серую стрелу, скользящую к нам по белому снегу. Пёся не оплошал и в последний момент бросился в контратаку. Псы сшиблись грудью, хрипя и пытясь вцепиться друг другу в глотку. Это продолжалось недолго, благодаря двукратной разнице в весе и размерах, Пени быстро одержал верх и теперь он грыз и трепал спаниеля за шею, пытаясь пережать трахею. Только тогда мне стала очевидна бескомпромисность его усилий. Пени не пытался победить, он хотел убить Пёсю.
Эта угроза ввела меня в состояние, именуемое в народе белой яростью. Немного о ярости. Красная ярость- это горячая, безрассудная, эмоцианальная ярость и сопровождается она приливом крови к лицу и учащённым сердцебиением. В ней люди совершают большинство преступлений. Белая ярость, напротив, расчётлива и холодна, характеризуется тем, что кровь отливает от лица при нормальном пульсе. В ней, как правило, не делается ничего лишнего.
Я подхватил Пени за левую заднюю ногу, оттянул её вверх, обнажив узкий живот и пнул ногой промеж ляжек. Пени чуть взвизгнул, но даже стоя на трёх ногах не разжал свои челюсти. Тогда я опять оттянул ногу и собрав всю ярость ударил под рёбра в живот скобой лыжного ботинка. Надо сказать, что единственно по настоящему уязвимые места у собаки- это нижняя часть шеи и живот, поэтому природа постарась запрятать их как можно дальше. Второй удар под диафрагму вышиб воздух из лёгких Пени, он обмяк и выпустил спаниеля, осташись лежать на животе, мелко и часто дыша. Чуть поскуливая и пытаясь восстановить дыхание Пени ясно смотрел мне в глаза. В его глазах не было ни злости, ни страха, ни вины, ни жалости. Пёся удивил меня второй раз: тяжело дыша он стоял рядом со страдающим Пени, дружелюбно крутил обрубком хвоста, проявляя всяческое сострадание по отношению к агрессору. Пени совсем не обращал внимание на спаниеля: не получилось, так не получилось, ничего, может в другой раз получится.
Больше всего этот инцидент перепугал моих соседей. Страх, что Пени сожрёт соседского спаниеля быстро сменился жалостью к своему питомцу и даже немым мне укором. Мне стало неудобно и я растеряно разводил руками.
«Теперь я вижу, Пекка, что в жилах Пени действительно течёт волчья кровь. До сих пор я в это не верил. Для него мой спаниель - это не кобель, не конкурент, не сородич, а дичь, вроде ягнёнка. Если бы он его одолел, то не удивился, если перекусил бы прямо на льду собачятиной. Но Пёся мне друг, у меня имеются возражения против этого». Я стрался остротами разрядить атмосферу. Ссориться с соседями совсем не входило в мои планы.
Хелена стала жаловаться. «Пени -это тяжелый случай. Ещё молодым он задрал насмерть одну собаку в лесу. Причём суку! А в прошлом году хорошенько цапнул меня за руку, даже ездили зашивать рану в больницу. Пекка отлупил его, но пёс даже не понял за что. Только огрызался и скалился. Мы с ним не справляемся. Давай сделаем так. В городе он живет в вольере. Вечно его держать в неволе тоже нельзя. Мы приезжаем сюда довольно редко. Выпускать Пени будем только тогда, когда твой спаниель заперт дома. Обычно ему хватает пару часов, потом он сам возвращается домой. Когда Пени на воле, людям он не опасен. Он просто их избегает и близко к домам не подходит».
На том мы и порешили. Отныне я всегда проверял, нет ли соседей на даче. И если они приезжали, то не отпускал во двор моего Пёсю. Однако и это не помогло. Однажды, когда мы шли к машине, возле гаража вдруг мелькнула серая тень. Пени без промедления атаковал спаниеля. В этот раз под рукой оказалась штыковая лопата и один раз я ударил его по голове плашмя, а второй раз острым краем лопаты. Этого оказалось достаточно, атака была отбита малой кровью. В тот день я повесил один топор возле двери гаража, а второй у двери в сарае. Решил также впредь не расставаться с ножом и в следующий раз мочить Пени насмерть. Собачью анатомию я знал хорошо и не сомневался в успехе.
В следующий приезд моего соседа я запер Пёсю дома, взял бутылку армянского коньяка и пошел в гости к Пекке. Он был один, собаку оставил в городе. Я предложил ему выпить. После второй рюмки выпитого я сказал ему примерно следующее: «Как ни крути, Пекка, а тут есть всего три варианта. Первый- Пени подкараулит Пёсю одного и убьёт его. Второй- я буду рядом и зарежу Пени. Третий- ты не будешь отпускать его на волю, хотя всё во мне восстаёт против этого. Поскольку сам ценю свободу и ненавижу отбирать её у других». Пекка долго и тяжело молчал, выпил ещё коньяка и потом сказал «Я решу эту проблему».
Через пару недель, в апреле, Пекка и Хелена опять появились на даче. Я пошел поздороваться с ними. Они увидев меня дружно заплакали. «Пени больше нет на белом свете. Пекка сам не смог. Вчера один знакомый охотник застрелил его». Вместо облегчения у меня сжало вдруг горло.
Соколов в СССР
Александр Соколов родился в Оттаве в 1943 году в семье заместителя военного атташе советского посольства в Канаде. Отец писателя выведывал здесь атомные секреты и в 1947 году был с шумом выдворен из страны. Соколова собирались отдать в привилегированную школу для детей партийного руководства, но он, с детства склонный к фрондерству, отказался. Сильнейшее литературное впечатление юности - Гоголь, важнейший жизненный опыт того же периода - работа в морге в свободное от учебы время. Видимо, здесь - корень пристального соколовского интереса к пограничным, «сумеречным» состояниям бытия и языка. В 1960-х он принадлежал к поэтической группировке СМОГ , читал на журфаке американских и европейских модернистов, лежал в психушке, подрабатывал в газетах (известен факт его сотрудничества с красноярским «Студенческим меридианом» и всесоюзной «Литературной Россией»), пытался сбежать из СССР через советско-иранскую границу и искал собственный неповторимый стиль. Вероятно, поворотным событием творческой биографии Соколова стал его временный переезд на Волгу: устроившись в 1972 году егерем в Безбородовское охотничье хозяйство, он сочинил тут «Школу для дураков» и набрался впечатлений для второй, еще более виртуозной книги - «Между собакой и волком». Разумеется, роман было невозможно опубликовать в Советском Союзе, и после нескольких лет бюрократических мытарств, в 1975 году, в результате личного вмешательства Брежнева Соколову было разрешено покинуть страну - так он оказался в Вене, а затем в США.
Соколов в эмиграции
Здесь писателя взяли под крыло щедрые Карл и Эллендея Проффер , заручившиеся для публикации «Школы» поддержкой Владимира Набокова. Его слова об этой «обаятельной, трагичной и трогательнейшей» книге, увидевшей свет в 1976 году, стали для Соколова охранной грамотой, которая позволила ему впоследствии приобрести репутацию набоковского «преемника» в области русскоязычной изящной словесности. Впрочем, триумфального шествия по американским академическим кругам не получилось: сам писатель полагает, что определенную роль в этом сыграл Иосиф Бродский, который отстаивал перед местным культурным истеблишментом интересы «ленинградской мафии» - Владимира Марамзина и Сергея Довлатова - и не давал хода текстам «москвичей»
- например, «Ожогу» Василия Аксенова. Пожив некоторое время в Анн-Арборе у основателей «Ардиса», он вернулся на родину - в Канаду. В 1980-е годы и далее определить точное место пребывания Соколова непросто: известно лишь, что в США он познакомился с Александром Жолковским и Эдуардом Лимоновым, работал лыжным инструктором в Вермонте, преподавал в университетах, трижды наведывался в Россию и написал еще два выдающихся произведения - о которых ниже.
Интереснейший видеодокумент - в 1986 году Саша Соколов рассказал слависту Джону Глэду о своем отъезде из Союза, советском литературном андеграунде, знакомстве с Набоковым, нелюбви к Платонову и многом другом
Романы
«Между собакой и волком» (1980)
Велик соблазн прочитать второй роман Соколова как своеобразный спин-офф «Доктора Живаго»: к этому располагает не только эпиграф из Пастернака, указывающий на одного глухого и вместе с тем чрезвычайно словоохотливого собеседника Юрия, но и инкорпорированные в текст книги поэтические вставки, на уровне размера и тематики напоминающие творчество классика времен «неслыханной простоты». Эти параллели, однако, едва ли что-нибудь проясняют - не поможет тут и сухой пересказ. В самом общем виде центральная линия «Между собакой и волком» - история одноногого точильщика Ильи Петрикеича Дзынзырэлы, который пишет отставному следователю Сидору Фомичу Пожилых жалобу на егерей, похитивших его костыли; параллельно - хотя изощренный хронотоп романа не позволяет однозначно поместить события в пространстве и времени - его сын, «запойный охотник» Яков Ильич, сочиняет стихи, глядя в окно. Стилистическое визионерство Соколова, вполне очевидное еще для читателей дебютной «Школы для дураков», достигает здесь небывалых для русской литературы масштабов: в одних главах ведется инфинитивное повествование, в других закручиваются ленты Мебиуса, когда одни и те же герои как бы меняются ролями по ходу повествования. Иными словами, если в отечественной словесности и существует хотя бы приблизительный аналог джойсовских «Поминок по Финнегану», то это выглядит примерно так: «Гвалту - вываливаться распаренно в отверстые фортки и тряпьем пастельных тонов - застиранным и дырявым - повисать на бельевых веревках, а после, сдутому ветром, разлетаться по парку стаями галок, ворон, рассаживаться по ветвям, гомозиться - несусветному, отчужденному».
«Палисандрия» (1985)

Выдуманную автобиографию своеобразного тезки автора - Палисандра Дальберга, «кремлевского сироты», взращенного плеядой советских вождей и ставшего впоследствии главой Ордена часовщиков (попросту говоря, чекистов), - порой называют анти-«Лолитой». Вслед за Набоковым Соколов берется выработать адекватный русский сексуальный лексикон - причем на столь же рискованном материале: в противовес гумбертовским нимфеткам объектом вожделения Дальберга являются высокопоставленные старухи с их «блеклыми и дряблыми, но такими малярийно знобящими прелестями». Впрочем, как и набоковский шедевр, «Палисандрия» не исчерпывается одним лишь эротическим измерением: Соколов изобретательно и зло пародирует главные экспортные жанры неподцензурной литературы - мемуары представителей советской элиты и диссидентов, шпионский триллер, политическую сатиру, - метя ни много ни мало в тело русского романа, - и это за десять лет до одноименной сорокинской экзекуции. И пусть вес так и не был взят ни тем ни другим, tour de force в исполнении ведущего русскоязычного писателя 1970–1980-х годов обнажил перед современниками и потомками набор приемов, с помощью которых можно поддерживать необходимый, по мысли Ходасевича, «дух вечного взрыва и вечного обновления» и двигаться вслед за другими великими тенями за «далекий, сизый горизонт» - или куда бы там ни вывело Слово.
Ученики
Михаил Шишкин
 Фотография: Wikipedia
Шишкинское реноме главного наследника Соколова (а через него и вообще всего русского модернизма) давно стало общим местом - охотно подтверждает это и сам мэтр, с уважением называя автора «Взятия Измаила» «одним из самых». Обоих писателей, очевидно, прежде всего интересует протеизм русской речи, позволяющий с особенной плавностью переходить между языковыми регистрами и смешивать в пределах одного высказывания совершенно разные временные пласты. В этом смысле умопомрачительная полифония «Между собакой и волком», зачастую оставляющая читателя в неведении относительно субъекта повествования, - основной стилистический образец для такой коллажной структуры, как роман «Венерин волос», составленный в значительной степени из монологов российских беженцев. Тем интереснее различия: кажется, в позднем Соколове Шишкина, которого прочитанная в 16 лет «Школа для дураков» «завернула в слово» , отпугивает то, что Сергей Гандлевский применительно к Набокову называл «максимализмом артистических притязаний», - в частности, готовность ради изящно организованного текста расстаться хоть с сюжетом, хоть с персонажами.
Фотография: Wikipedia
Шишкинское реноме главного наследника Соколова (а через него и вообще всего русского модернизма) давно стало общим местом - охотно подтверждает это и сам мэтр, с уважением называя автора «Взятия Измаила» «одним из самых». Обоих писателей, очевидно, прежде всего интересует протеизм русской речи, позволяющий с особенной плавностью переходить между языковыми регистрами и смешивать в пределах одного высказывания совершенно разные временные пласты. В этом смысле умопомрачительная полифония «Между собакой и волком», зачастую оставляющая читателя в неведении относительно субъекта повествования, - основной стилистический образец для такой коллажной структуры, как роман «Венерин волос», составленный в значительной степени из монологов российских беженцев. Тем интереснее различия: кажется, в позднем Соколове Шишкина, которого прочитанная в 16 лет «Школа для дураков» «завернула в слово» , отпугивает то, что Сергей Гандлевский применительно к Набокову называл «максимализмом артистических притязаний», - в частности, готовность ради изящно организованного текста расстаться хоть с сюжетом, хоть с персонажами.
Владимир Шаров
 Фотография: Wikipedia
Художественным обоснованием квазиисторического романа девяностых - а это не только «Голова Гоголя» и «Борис и Глеб», но и, с известными оговорками, «Чапаев и Пустота» и «Голубое сало» - можно считать открыто пересмешническую, провоцирующую расползание любой сколь-нибудь прочной сюжетной ткани «Палисандрию». С куда более серьезными намерениями постмодернистский и - уже - соколовский инструментарий использован профессиональным ученым Владимиром Шаровым. Деконструируя прошлое, в котором патриарх Никон поручает французскому режиссеру Жаку де Сертану поставить ко второму пришествию Христа большую мистерию («Репетиции»), Сталин оказывается сыном и вместе с тем любовником Жермены де Сталь («До и во время»), а Ленин - вожаком крестового похода детей-беспризорников на Иерусалим («Будьте как дети»), писатель предлагает читателю новую оптику, чтобы сквозь нее увидеть события и деятелей национальной и мировой истории в непривычном и до некоторой степени скандальном (редакторы «Нового мира» публично ставили на вид Шарову вольное обращение с библейским мифом) свете.
Фотография: Wikipedia
Художественным обоснованием квазиисторического романа девяностых - а это не только «Голова Гоголя» и «Борис и Глеб», но и, с известными оговорками, «Чапаев и Пустота» и «Голубое сало» - можно считать открыто пересмешническую, провоцирующую расползание любой сколь-нибудь прочной сюжетной ткани «Палисандрию». С куда более серьезными намерениями постмодернистский и - уже - соколовский инструментарий использован профессиональным ученым Владимиром Шаровым. Деконструируя прошлое, в котором патриарх Никон поручает французскому режиссеру Жаку де Сертану поставить ко второму пришествию Христа большую мистерию («Репетиции»), Сталин оказывается сыном и вместе с тем любовником Жермены де Сталь («До и во время»), а Ленин - вожаком крестового похода детей-беспризорников на Иерусалим («Будьте как дети»), писатель предлагает читателю новую оптику, чтобы сквозь нее увидеть события и деятелей национальной и мировой истории в непривычном и до некоторой степени скандальном (редакторы «Нового мира» публично ставили на вид Шарову вольное обращение с библейским мифом) свете.
Сергей Солоух
 Фотография: expert.ru
Задиристый тон высказываний Солоуха о Соколове - «ну, как там, ловится, нет, Шура?» - только подчеркивает влияние «старшего брата в дедовских крагах» на автора «Игры в ящик» и «Клуба одиноких сердец унтера Пришибеева». С предубеждением относясь к писателям, предпочитающим силу воображения лично пережитому опыту (определение, под которое создатель «Палисандрии», безусловно, подпадает), Солоух поставил соколовские завоевания - главным образом, в области повествовательного искусства - на службу строгому или, по крайней мере, всегда вычленяемому сюжету. Примирение реалистической и модернистской традиции в своем творчестве Солоух зафиксировал в цикле новелл «Картинки»: сборник из двенадцати рассказов с чеховскими («Архиерей», «Лошадиная фамилия», «Анна на шее», «Степь») названиями посвящен Вете Акатовой и Розе Ветровой - героиням, то сливающимся, то раздваивающимся в причудливом сознании рассказчика «Школы для дураков».
Фотография: expert.ru
Задиристый тон высказываний Солоуха о Соколове - «ну, как там, ловится, нет, Шура?» - только подчеркивает влияние «старшего брата в дедовских крагах» на автора «Игры в ящик» и «Клуба одиноких сердец унтера Пришибеева». С предубеждением относясь к писателям, предпочитающим силу воображения лично пережитому опыту (определение, под которое создатель «Палисандрии», безусловно, подпадает), Солоух поставил соколовские завоевания - главным образом, в области повествовательного искусства - на службу строгому или, по крайней мере, всегда вычленяемому сюжету. Примирение реалистической и модернистской традиции в своем творчестве Солоух зафиксировал в цикле новелл «Картинки»: сборник из двенадцати рассказов с чеховскими («Архиерей», «Лошадиная фамилия», «Анна на шее», «Степь») названиями посвящен Вете Акатовой и Розе Ветровой - героиням, то сливающимся, то раздваивающимся в причудливом сознании рассказчика «Школы для дураков».
Денис Осокин
 Фотография: Wikipedia
Как-то в интервью Соколов признался , что выбор между стихами и прозой дался ему нелегко: пожалуй, именно поэтому следы нереализованных поэтических амбиций так зримы в его сочинениях. Мечта о синтезе лирики и эпоса, пронизавшая весь XX век - от Андрея Белого и его, по выражению Годунова-Чердынцева, «капустных гекзаметров» до «нормальной проэзии, нормального изумизма» самого автора «Тревожной куколки» и «Знака озарения», - получила весьма яркое воплощение (в том числе и средствами кинематографа) в произведениях Дениса Осокина. Вещи сложной жанровой природы, «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари», располагаются в современной русской литературе где-то рядом с соколовским «Триптихом», опубликованным в полном виде в 2010 году и вызвавшим у критики закономерное недоумение. Между тем в обоих случаях мы имеем дело со все той же ритмизованной прозой, которой с одинаковым успехом можно рассказывать экзотические истории или сигнализировать о полном распаде коммуникативного процесса как такового.
Фотография: Wikipedia
Как-то в интервью Соколов признался , что выбор между стихами и прозой дался ему нелегко: пожалуй, именно поэтому следы нереализованных поэтических амбиций так зримы в его сочинениях. Мечта о синтезе лирики и эпоса, пронизавшая весь XX век - от Андрея Белого и его, по выражению Годунова-Чердынцева, «капустных гекзаметров» до «нормальной проэзии, нормального изумизма» самого автора «Тревожной куколки» и «Знака озарения», - получила весьма яркое воплощение (в том числе и средствами кинематографа) в произведениях Дениса Осокина. Вещи сложной жанровой природы, «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари», располагаются в современной русской литературе где-то рядом с соколовским «Триптихом», опубликованным в полном виде в 2010 году и вызвавшим у критики закономерное недоумение. Между тем в обоих случаях мы имеем дело со все той же ритмизованной прозой, которой с одинаковым успехом можно рассказывать экзотические истории или сигнализировать о полном распаде коммуникативного процесса как такового.
Алексей Макушинский
 Фотография: makushinsky.narod.ru
На первый взгляд, модель письма Макушинского, его тягучие, нерасторопные, марсель-прустовские или - ближе к сфере академических интересов автора - томас-манновские периоды точно соответствуют европоцентричному пафосу Соколова. Во всяком случае, об этом свидетельствует не только немецкая прописка писателя, но и коллизии его романов - медитативных, с расчетом на мгновенное узнавание заветных модернистских кодов - вроде «Парохода в Аргентину» («Русская премия-2015»). На поверку, впрочем, Макушинский представляется как раз «отказником» соколовской традиции: удовлетворившись, по-видимому, стилистической сложностью довоенной западноевропейской и эмигрантской прозы, в собственных текстах он не рискует в полной мере довериться непредсказуемой языковой стихии. Вероятно, оттого художественная манера автора «Города в долине» и напоминает утрированно-газдановскую - та же благородная задумчивость неприкаянного «глобального русского», слишком отчетливо осознающего свою вторичность.
Фотография: makushinsky.narod.ru
На первый взгляд, модель письма Макушинского, его тягучие, нерасторопные, марсель-прустовские или - ближе к сфере академических интересов автора - томас-манновские периоды точно соответствуют европоцентричному пафосу Соколова. Во всяком случае, об этом свидетельствует не только немецкая прописка писателя, но и коллизии его романов - медитативных, с расчетом на мгновенное узнавание заветных модернистских кодов - вроде «Парохода в Аргентину» («Русская премия-2015»). На поверку, впрочем, Макушинский представляется как раз «отказником» соколовской традиции: удовлетворившись, по-видимому, стилистической сложностью довоенной западноевропейской и эмигрантской прозы, в собственных текстах он не рискует в полной мере довериться непредсказуемой языковой стихии. Вероятно, оттого художественная манера автора «Города в долине» и напоминает утрированно-газдановскую - та же благородная задумчивость неприкаянного «глобального русского», слишком отчетливо осознающего свою вторичность.
Саша Соколов
Между собакой и волком
Приятелям по рассеянью
Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки
Молодой человек был охотник
Пастернак
1. Заитильщина
Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний. Гражданину Сидор Фомичу Пожилых с уважением Зынзырэлы Ильи Петрикеича Заитильщина. Разрешите уже, приступаю. Гражданин Пожилых. Я, хоть Вы меня, вероятно, и не признаете, гражданин, тоже самое, пожилой и для данных мест сравнительно посторонний, но поскольку точильщик, постольку точу ножи-ножницы, и с панталыку меня вряд ли, пожалуй, сбить, пусть я с первого взгляда и совершенный культяп. Точу и косы, и топоры, и другой хозтовар, но такие подробности только усугубили бы речь. По реченной причине опускаю и события отзвонивших-и-с-колокольни-долой лет, лишь настаиваю, что до сего дня вплоть в судимые не попал, даром что обитал в значительных городах. Куковал где поселят и запросто, за семью по-настоящему не болел, а зарабатывал, прося у публики вспомоществовать по мере сил и возможностей. В чем и раскаиваюсь, избрав для этого артель индивидов имени Д. Заточника. Вы меня извините, конечно, а контора самостоятельная и прейскурант имеется налицо. В теплоту – все те же ножи: ходим вокруг да около и отходим в отхожие промысла. Наоборот, в морозы обслуживаем население по точке и клепке, поелику с ноября по апрель, ежедневно, без выходных, бобылье и уроды наподобие Вашенского корреспондента звенят и крутятся на зеркале вод, а как смеркнется – так Вы приветствуете их в трехэтажной тошниловке, прозванной с чьей-то заезжей руки кубарэ; но Илью среди них не обрящете. Вам взгрустнется: что он за мымра такой, почему не сообразит себе пару точеных, как у людей, неужель презирает пошаркать на острых по гладкому, ужели гребует кружечкой полезно-общественного пивка? Заблуждение, от свойственного ни в чем да не отрекусь, и не из тех я точильщиков, которые не востры суть. Пара, правда, нам ни к чему, но один снегурок на блезире всегда висит. Что мне за важность, что очутился, к сожалению, ущерблен, ежели по натуре кремнист: полюбил раскатиться – и не уймешь, было б чем отпихнуться – дзынь раза, гражданин Пожилых, дзынь раза, и подъелдыкивай, брюзжи себе под дугою хоть до Валдай-пристани – литье бубенчиков, печенье баранок, отпуск пеньки – и никто тебе по Итилю не указ. Разрешите продлить? А вот именно и оно, что отпихнуться в последнее время нечем как есть. Декабря в четвертый четверг, читай в Канун, шел я из-за реки, выдвигаясь от некоторого вряд ли Вам знакомого погребальщика. Провожали одного одинокого, отбросившего коньки через собственный горделивый азарт. Жил он в Мыло, можно сказать, Мукомолове, но на отшибе, в ужовниках с примесью ветляка, был охотник, держал неизменно бормотов, довольно-таки мохноногих, да сомневаюсь, чтоб состоял в переписке с кем-либо: сомнительно. Сам, однако, сновал сухощавый, как то мочало в жары, а звали его – я не припомню как. Гурий – так и звали его, если на то пошло. Из развлечений означенного Гурия укажу на следующее: вот кто обожал пошаркать и раскатиться по гладкому на точеных, которые и стали причиной того, что мы клиента утратили, а погребальщики клиента же обрели. Рядом с этим поставлю в известность. В стрелецкие числа, чтобы опасней, зато бодрей, бобыли обоих мелкоплесовских берегов обустраивают состязания на слабеющем льду. Происходит в кромешной темени, предумышленно без небесных светил, и народ фигуряет кто мудреней и суетится в горелки и взапуски, не зря промоин и трещин. Что чревовато. Прикурить насчет покрутиться всем давал такой Николай, парень из утильной, в конечном итоге, артели. По фамильярному прозванью Угодник, выступал он по миру как искренний незадачник, и отдельные шутники из завистников ехидствовали над ним, говоря, что затейливо столь выдрючивается оттого, что притерся мыкаться по темным углам, ему, мол, в обычину. Хроника его невезухи, если не возражаете, какова? Он, во-первых, изведал семейную матату, но супруга поладила с волкобоем и сжила Угодника долой со двора, во-вторых. И тогда постучался в городнищенский приют для неслышащих, но последние дали от ворот поворот: учрежденье у нас лишь для глухарей, а ты, как видишь, еще и слепак, так что сам понимаешь. Потому этот малый посунулся в незрячий приют: ничего подобного, переполнен лимит койко-мест, то ли случай, когда б фисгармоника собственная была, ошивался б по дебаркадерам и выручку знай сдавал бы в общий котел, и мы бы тебя за это держали. Николай Угодников, он восстал перед ними во весь свой скрюченный рост и, сердито плача горючими бельмами, закричал: стручки вы заморские, да случись у меня мусикия своя – разве спрашивал бы я у вас, как же быть. И следующим этапом явился-не запылился в дом заезжих бездомных, но те вошли в его шкуру любезно, плеснув от души. И соблазняли: живи-ка, брат, вечно. А наведалась к кому-то из них эта дама и замечает Угодника среди прочих убогих, в кругу их: что это там у вас между вами невзрачный какой на катке? Не беспокойся, это просто Николка у нас между нами катается себе на катке. Вероятно, не так уж худо его обстоятельство, говорит, если он лихо так оборачивается. Нет, сказали, оно у него не ахти, табак его обстоятельство, только и остается утех, что мыслете выделывать. Дама же: нет уж, вы уж лучше не позволяйте ему здесь чудить, ну его, неказистого. И богаделы просили Угодника: сделай нам одолжение, не живи-ка, брат, вечно, а то нарекания. Ничего не ответил, ведь слыл ко всему и немым, и он отправился из заведения вдаль и даже не обернулся. И его пригрела артель по сбору всевозможного утиля. Известили, что излишней выслугой лет у них не блеснул, но что по-пьяному маленько погорячился и куда-то такое пропал, да и вряд ли, пожалуй, объявится. Такова, если не возражаете, эта хроника. Возникает: точил ли я ему неточеные? А оказывается, только я один из всего коллектива ему и точил, а остальные сотрудники, брезгуя, воротили нос, несмотря что и сами пачули не первой свежести. Точил я и Гурию, и Крылобылу, и Зимарь-Человеку точил, я всему Итилю, понимаете ли, точил. А вот Гурий-Охотник, он по беговой части карьеру жал. Хлебом, бывало, его не корми – дай разлететься по скользкому. Разлетится он в артельную мастерскую некоторый раз, перепадет, словно бы долгожданный в засуху дождь, забежит, подустал, и что нам прикажете делать – мы сбрасываемся по рублю. И считаться. Вышел Гурий из тумана, вынул ножик из кармана, стану я тот нож точить, а тебе – вина тащить. Если мне – я с печалью, но я готов. Раз хотел уже приторочить к чеботу снегурок, но в это мгновение замечаю, что скучает по рашпилю. Хвать – а рашпиль запропастился совсем, либо коллеги его заиграли. Гурий задумался благородно и говорит: что ты ищешь, скажи. Я сказал. Он сказал им: эй вы, механики, верните струмент, кто заиграл, корешок обыскался а то. Но артель отвечала: отзынь, на болт нам долбаный рашпиль его. И еще: что он, на рашпиле, что ли, в Слободу попылит? Да и вы, наверно, засомневаетесь, разумно ли, базируясь под боком у кубарэ, в Слободу семь верст киселя хлебать– на рашпиле там или на дурашпиле. Не сомневайтесь, ибо ведь жертва жребия спешит не пустой, он таранит в торбе на мощном горбу стеклотару, купно собранную при долинах и взгорьях. И – Вы, может, еще совершенно не в курсе – стремлюсь предуведомить. В кубарэ из какой-то ложной гордыни посуду не принимают во вниманье отнюдь и на вынос торгуют с большими скандалами, чем с человеческой точки зрения дают коммерческий мах. И другая картина рисуется в забегаловке на протоке, за грядой кудреватых, но с виду незначительных островов. Там твое заберут по справедливой цене, без капризов, а оплаченное имеешь право употребить как в помещении, так и вне. И Гурий точильщикам напрямик: а хотя б и на рашпиле. И затем он же им же: Илие, вероятно, на рашпиле не с руки, ну, а я бы, разумеется, очаровательно б смог. Они его тогда ну подначивать, гражданин Пожилых. Верим-верим, ты у нас марафонить известный мастак, вон мослы-то себе отрастил – первый сорт, и сухие и долгие, нам ли с нашими бестолковыми моськами в калашный ряд, а тем паче Илье-Безобразнику. Не сокрою, случаются фотокарточки хуже, но реже. Так, докладывал егерь Манул, ходивший по щепетильным нуждам в Иные Места, что встречал там страшилищей и почище. Значит, не все потеряно, дорогой, и покуда держу я кой-как клепало и брус, к бесталанным себя не причислю, и отчаянья в Илье не ищи. Обнаруживаю я рашпиль, заусенец смахнул, и выдвигаюсь, груженный, на реку. Я беру направление наискосяк, под градусом, и поелику тонок лед, вся она подо мной, как открытая. Достигаю протоки. По ней, в затишке поддав, заруливаю под самую Слободу. Тары-бары я там особенно не рассусоливаю, недосуг. Совершаю законную куплю-продажу, разворачиваюсь и дую домой, а сумерки так и вьются над глупой моей башкой, и Даниилы мои издали освещают мне ледяной путь мой коптилкою штормовой, чтобы не проскочил я, паче чаяния, мимо цехов. Приняли мы тогда. Нас ты, горемык, обойдешь как стоячих, артель подначивала, с тобою, Гурий, гоняться мы пасы. Так, механики, так, я меж всеми тут есть настоящий сухой бегун. Поглядите, он им сказал, поглядите во все наши дали заиндевелые, нет эдакого, которого бы я не обшаркал – где юноша сей? Воскурили, заспорили и вышли на холод перекурить. Стали мы на пригорке; за нами град деревянен, велик, там мужик брандахлыстничает вовсю, а внизу, перед нами, плес – как на ладошке застыл. Оглянитесь, Гурий мастерам заявил, там, на правой руке, будет у нас селение Малокулебяково. Ну и кто же у нас там живет? Мало ли в Кулебякове кто живет, артельщики сказали уклончиво. Например, существует там известный мельник-толстяк, которого земля едва носит, не то, что лед, а на мельнице у мельника чурка есть, Алладин, но с ним, понимаем, гоняться тебе не в честь. И находится в Кулебякове егерь еще, который, по слухам, в сухой колодец упал. Он кричит, а его не слышно, а супруга его знает, где он, но безинтересно ей его доставать, потому что с соседом фигли-мигли у ней – тоже с егерем, но молодей: задурил-таки тот ей голову. Словом, заняты тут егеря, не до гонок. А больше в селе и нет никого. А во Плосках из более или менее бегунов обретается юноша Николай, у которого имени собственного не было никогда, верней было, но слишком давно. И когда Николаю Угоднику вышло преображение и он улетел, этот имя его себе урвал – не дал, называется, добру пропасть. Гурий же: а то, что он рыбку потаскивает – и вообще не беда, и зря на него рыбари обижаются и желали бы погубить. Подумаешь – рыб человек у людей немножко крадет, выискали тоже зацепку человека снедать. Так, Гурий, так, твари на воле, в тенетах ли – равно ничьи, а если и чьи – то известно Чьи, но тогда все ловцы здесь, выходит, сильнеющие браконьеры перед лицом Его. И напрасно, напрасно они Николу порешили некогда. Вот он, кстати сказать, улов их как раз из вентерей их подледных за островами берет. Завязал мешок – на салазки – и потянул. Знобко ему, очи ему дальновидные метель нажгла, валенки прохудились, варежки потерял, коньки не точеные, а Волколис приставучий – он тут как тут. Кинь рыбешку, Николаю грозит, кинь вторую, а то темноту на Итиль напущу. Николая Плосковского ночь пуще смерти страшит, и он тройку осетров Волколису беспрекословно кидает в лес. Ибо ведь в Городнище до темна не поспеть – средств за товар не выручить, средств за товар не выручить – в кубарэ не зайти, в кубарэ не зайти – со товарищи не гулять, а со товарищи не гулять – так зачем тогда лямку тянуть, гражданин Пожилых, сами судите. И пока те деятели с дрекольем веским Николая у околицы ждут, он с полмешком осетров серебристых и зеленых склизких линей приближается ходом к пригородам. Мол, поклон тебе, лубяной веселеющий град, исполать вам, высокие расписные тараканьи терема. Приюти, говорит, град, на грядущую ночь убиенного недругами невезучего рыбаря, закупи у него товар, дай деньжат небольших, чтоб в кармане позвякивало, пусть разгладятся морщины у старика, пусть растопырит нетопырь-одиночка сморщенные крылья свои. И не будь скупердяем, плесни, град, вздрок. А еще, говорит, познакомь ты меня, град, с бобылкой которой-нибудь поскуластей, поласковей. Снял коньки и пошел, пошел в гору Николай из Плосков, а навстречу ему неимущих чертова прорва поспешает, не торопясь: дай да дай нам от уловов твоих ради Христа, а не то хуже будет. Судари попрошаи, плесы у меня в мешке не мои, ибо все, что тут есть кругом, в том числе веретена рябых облаков, и река, и ладьи, что брюхатыми вдовами валяются, брошены, кверху пузами возле бань, а также лохмотья наши и мы сами, которые в них, – все это не мое и не ваше. Знаем-знаем, нищие, как чумовые смеясь, закивали тогда, значит, дай нам, тем не менее, на душу по хвосту, дай нам рыб не твоих, тем более. Вижу, горемыкам Николай плачется на горе, вижу, что с панталыку вас вряд ли, пожалуй, сбить. И вручает каждому по линю. Деться некуда – нищих прорва, а он един. Человек одинокий в дороге его, особенно когда синька такая над Волчьей висит, он, позвольте признаться, на целом свете един. Николай дает им всякому по хвосту и вступает с остатком добычи в деревянный декабрьский град, и стучит стародавней клюкой в ворота гулких дворов, и клянет шавок гавких, мерзлые цепи грызущих. А мы стоим себе дальше на берегу; звезд над нами немного пока воссияло, но все-таки. И Гурий-Охотник, он заявляет безо всяких обиняков: с Николаем Плосковским, пусть я его и уважаю слегка, гонки гонять для себя не полагаю приличным, по мне он дряхл да и суетен – обшаркаю и смущу.
Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний. Гражданину Сидор Фомичу Пожилых с уважением Зынзырэлы Ильи Петрикеича Заитильщина. Разрешите уже, приступаю. Гражданин Пожилых. Я, хоть Вы меня, вероятно, и не признаете, гражданин, тоже самое, пожилой и для данных мест сравнительно посторонний, но поскольку точильщик, постольку точу ножи-ножницы, и с панталыку меня вряд ли, пожалуй, сбить, пусть я с первого взгляда и совершенный культяп. Точу и косы, и топоры, и другой хозтовар, но такие подробности только усугубили бы речь. По реченной причине опускаю и события отзвонивших-и-с-колокольни-долой лет, лишь настаиваю, что до сего дня вплоть в судимые не попал, даром что обитал в значительных городах. Куковал где поселят и запросто, за семью по-настоящему не болел, а зарабатывал, прося у публики вспомоществовать по мере сил и возможностей. В чем и раскаиваюсь, избрав для этого артель индивидов имени Д. Заточника. Вы меня извините, конечно, а контора самостоятельная и прейскурант имеется налицо. В теплоту - все те же ножи: ходим вокруг да около и отходим в отхожие промысла. Наоборот, в морозы обслуживаем население по точке и клепке, поелику с ноября по апрель, ежедневно, без выходных, бобылье и уроды наподобие Вашенского корреспондента звенят и крутятся на зеркале вод, а как смеркнется - так Вы приветствуете их в трехэтажной тошниловке, прозванной с чьей-то заезжей руки кубарэ; но Илью среди них не обрящете. Вам взгрустнется: что он за мымра такой, почему не сообразит себе пару точеных, как у людей, неужель презирает пошаркать на острых по гладкому, ужели гребует кружечкой полезно-общественного пивка? Заблуждение, от свойственного ни в чем да не отрекусь, и не из тех я точильщиков, которые не востры суть. Пара, правда, нам ни к чему, но один снегурок на блезире всегда висит. Что мне за важность, что очутился, к сожалению, ущерблен, ежели по натуре кремнист: полюбил раскатиться - и не уймешь, было б чем отпихнуться - дзынь раза, гражданин Пожилых, дзынь раза, и подъелдыкивай, брюзжи себе под дугою хоть до Валдай-пристани - литье бубенчиков, печенье баранок, отпуск пеньки - и никто тебе по Итилю не указ. Разрешите продлить? А вот именно и оно, что отпихнуться в последнее время нечем как есть. Декабря в четвертый четверг, читай в Канун, шел я из-за реки, выдвигаясь от некоторого вряд ли Вам знакомого погребалыцика. Провожали одного одинокого, отбросившего коньки через собственный горделивый азарт. Жил он в Мыло, можно сказать, Мукомолове, но на отшибе, в ужовниках с примесью ветляка, был охотник, держал неизменно бормотов, довольно-таки мохноногих, да сомневаюсь, чтоб состоял в переписке с кем-либо: сомнительно. Сам, однако, сновал сухощавый, как то мочало в жары, а звали его - я не припомню как. Гурий - так и звали его, если на то пошло. Из развлечений означенного Гурия укажу на следующее: вот кто обожал пошаркать и раскатиться по гладкому на точеных, которые и стали причиной того, что мы клиента утратили, а погребалыцики клиента же обрели. Рядом с этим поставлю в известность. В стрелецкие числа, чтобы опасней, зато бодрей, бобыли обоих мелкоплесовских берегов обустраивают состязания на слабеющем льду. Происходит в кромешной темени, предумышленно без небесных светил, и народ фигуряет кто мудреней и суетится в горелки и взапуски, не зря промоин и трещин. Что чревовато. Прикурить насчет покрутиться всем давал такой Николай, парень из утильной, в конечном итоге, артели. По фамильярному прозванью Угодник, выступал он по миру как искренний незадачник, и отдельные шутники из завистников ехидствовали над ним, говоря, что затейливо столь выдрючивается оттого, что притерся мыкаться по темным углам, ему, мол, в обычину. Хроника его невезухи, если не возражаете, какова? Он, во-первых, изведал семейную матату, но супруга поладила с волкобоем и сжила Угодника долой со двора, во-вторых. И тогда постучался в городнищенский приют для неслышащих, но последние дали от ворот поворот: учрежденье у нас лишь для глухарей, а ты, как видишь, еще и слепак, так что сам понимаешь. Потому этот малый посунулся в незрячий приют: ничего подобного, переполнен лимит койко-мест, то ли случай, когда б фисгармоника собственная была, ошивался б по дебаркадерам и выручку знай сдавал бы в общий котел, и мы бы тебя за это держали. Николай Угодников, он восстал перед ними во весь свой скрюченный рост и, сердито плача горючими бельмами, закричал: стручки вы заморские, да случись у меня мусикия своя - разве спрашивал бы я у вас, как же быть. И следующим этапом явился-не запылился в дом заезжих бездомных, но те вошли в его шкуру любезно, плеснув от души. И соблазняли: живи-ка, брат, вечно. А наведалась к кому-то из них эта дама и замечает Угодника среди прочих убогих, в кругу их: что это там у вас между вами невзрачный какой на катке? Не беспокойся, это просто Николка у нас между нами катается себе на катке. Вероятно, не так уж худо его обстоятельство, говорит, если он лихо так оборачивается. Нет, сказали, оно у него не ахти, табак его обстоятельство, только и остается утех, что мыслете выделывать. Дама же: нет уж, вы уж лучше не позволяйте ему здесь чудить, ну его, неказистого. И богаделы просили Угодника: сделай нам одолжение, не живи-ка, брат, вечно, а то нарекания. Ничего не ответил, ведь слыл ко всему и немым, и он отправился из заведения вдаль и даже не обернулся. И его пригрела артель по сбору всевозможного утиля. Известили, что излишней выслугой лет у них не блеснул, но что по-пьяному маленько погорячился и куда-то такое пропал, да и вряд ли, пожалуй, объявится. Такова, если не возражаете, эта хроника. Возникает: точил ли я ему неточеные? А оказывается, только я один из всего коллектива ему и точил, а остальные сотрудники, брезгуя, воротили нос, несмотря что и сами пачули не первой свежести. Точил я и Гурию, и Крылобылу, и Зимарь-Человеку точил, я всему Итилю, понимаете ли, точил. А вот Гурий-Охотник, он по беговой части карьеру жал. Хлебом, бывало, его не корми - дай разлететься по скользкому. Разлетится он в артельную мастерскую некоторый раз, перепадет, словно бы долгожданный в засуху дождь, забежит, подустал, и что нам прикажете делать - мы сбрасываемся по рублю. И считаться. Вышел Гурий из тумана, вынул ножик из кармана, стану я тот нож точить, а тебе - вина тащить. Если мне - я с печалью, но я готов. Раз хотел уже приторочить к чеботу снегурок, но в это мгновение замечаю, что скучает по рашпилю. Хвать - а рашпиль запропастился совсем, либо коллеги его заиграли. Гурий задумался благородно и говорит: что ты ищешь, скажи. Я сказал. Он сказал им: эй вы, механики, верните струмент, кто заиграл, корешок обыскался а то. Но артель отвечала: отзынь, на болт нам долбаный рашпиль его. И еще: что он, на рашпиле, что ли, в Слободу попылит? Да и вы, наверно, засомневаетесь, разумно ли, базируясь под боком у кубарэ, в Слободу семь верст киселя хлебать- на рашпиле там или на дурашпиле. Не сомневайтесь, ибо ведь жертва жребия спешит не пустой, он таранит в торбе на мощном горбу стеклотару, купно собранную при долинах и взгорьях. И - Вы, может, еще совершенно не в курсе - стремлюсь предуведомить. В кубарэ из какой-то ложной гордыни посуду не принимают во вниманье отнюдь и на вынос торгуют с большими скандалами, чем с человеческой точки зрения дают коммерческий мах. И другая картина рисуется в забегаловке на протоке, за грядой кудреватых, но с виду незначительных островов.
В Лето от изобретения булавки пятьсот сорок первое, когда месяц ясен, а за числамине уследишь, Илья Петрикеич Дзынзырэла пишет следователю по особым делам Сидору ФомичуПожилых о своей жизни. Он жалуется на мелкоплесовских егерей, которые украли у негокостыли и оставили без опор. Илья Петрикеич работает точильщиком в артели инвалидов имениД. Заточника. Живет он, как и другие артельщики, в Заволчье - в местностиза Волчьей-рекой. Другое название реки - Итиль, и, значит, местность можно называть также, как и рассказ Ильи Петрикеича, - Заитильщиной.Живет Илья с бобылкой, к которой прибился по своему калечеству: у него нет ноги. Но любит он совсем другуюженщину - Орину Неклину. Любовь к Орине не принесла ему счастья. Работаяна железнодорожной станции, Орина гуляла со всем «ремонтным хамьем». Она и давнобыла такою - еще когда молоденькой девчонкой в Анапе миловалась со всемимариупольскими матросами. И все, кому принадлежала эта женщина, не могут её забыть также, как Илья Петрикеич. Где теперь Орина, он не знает: то ли погибла под колесамипоезда, то ли уехала вместе с их сыном в неизвестном направлении. Образ Оринымерцает, двоится в его сознании (иногда он зовет её Марией) - так же, как мерцаюти множатся образы родного Заволчья и его жителей. Но постоянно возникают среди них, превращаясь друг в друга, Волк и Собака. С таким странным «серединным»существом - чекалкой - Иван Петрикеич однажды вступает в бой на льду, по дорогечерез Волчью-реку.В Заволчье есть деревни Городнище, Быдогоща, Вышелбауши, Мыломукомолово.
После работы жители Заволчья - точильщики, утильщики, рыбаки, егеря - заходятв «тошниловку», прозванную каким-то приезжим «кубарэ», чтобы выпить«сиволдая». Они помнят простую жизненную истину: «Со товарищи не гулять - зачемтогда лямку тянуть?»Историю Заволчья пишет не только Иван Петрикеич, но и ЗапойныйОхотник. Как и Дзынзырэла, он любит час меж волка и собаки - сумерки, когда «ласкаперемешана с тоской». Но в отличие от Дзынзырэлы, который выражается замысловато, Охотник пишет свои «Ловчие повести» в классически простых стихах. Он описывает судьбыобитателей Заволчья.В его летописи - история «калики из калик», слепоглухонемого утильщика Николая Угодникова. Жена Николая поладила с волкобоем и сжилаУгодникова со двора. Ни в приютах, ни в богадельне Николая не приняли, пригрела еготолько артель по сбору утиля. Однажды артель направилась к портному на постой. Утильщикивзяли вина и «насосались в лоскуты». Проснувшись утром, они увидели летящего НиколаяУгодникова. Над головой его, как два крыла, были подняты костыли. Больше его никтоне видел.Другой герой летописи Запойного Охотника - татарин Аладдин Батрутдинов.
Аладдин как-то ехал на коньках в кино через замерзшую реку и провалилсяв промоину. Выплыл он только через год - «в карманах чекушка и домино, и трачен рыбами рот». Дед Петр и дед Павел, выловившие Аладдина, распили чекушку, сыгралив домино и вызвали кого следовало.Многие из тех, кого описывает Запойный Охотник, лежат на Быдогощенском погосте. Там лежит Петр по прозвищу Багор, которого все звали Федором, а сам он звал себя Егором. На спор он повесился на краденой слеге. Лежитна кладбище горбатый перевозчик Павел. Он думал, что могила избавит его от горба, и поэтому утопился. А Гурий-Охотник пропил берданку и умер от горя.Запойный Охотниклюбит своих земляков и свое Заволчье. Глядя в окошко своего дома, он видитту же картину, которую видел Питер Брейгель, и восклицает: «Вот она, моя отчизна, /Нипочем ей нищета, / И прекрасна нашей жизни / Пресловутая тщета!»В пору между собакойи волком трудно различить образы людей и людские судьбы. Кажется, что Илья Петрикеич уходитв небытие, но рассказ его продолжается. Впрочем, может быть, он и не умирает. Ведьи имя его меняется: то он Дзынзырэла, то Зынзырелла… Да он и сам не знает, где, зачерпнув «сивухи страстей человеческих», подхватил такое цыганское имя! Так же, какпо-разному объясняет обстоятельства, при которых стал калекой.«Или сокровенны тебеслова мои?» - спрашивает Илья Петрикеич в последних строках своей«Заитильщины».